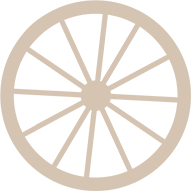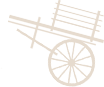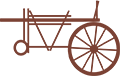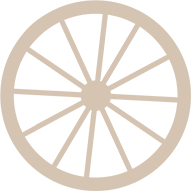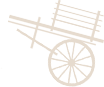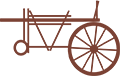Блог о путешествиях
21 декабря 2018 г. Адам и Марыля… Ровно двести лет тому назад родилась эта любовь, соединившая два сердца и два имени — Адам и Марыля… Соединившая их в веках!
Палiлiся мае слёзы, як дождж чысты i краплiсты,
На маленства, што было анельскiм, сельскiм,
На юнацтва час мой шумны, неразумны,
А таксама на век сталы, век няўдалы:
Палiлiся мае слёзы, як дождж чысты i краплiсты...
А. Мицкевич
Какой же она была, юное вдохновение будущего гения поэзии? Разные мемуаристы, расходясь в деталях, единодушно признают, что Марыля Верещака была незаурядной, исключительной женщиной своего времени. Гармоничная, веселая, мечтательная, она к тому же была наделена от природы живым умом, получила хорошее образование, знала французский, итальянский, немецкий языки, прекрасно пела и играла на фортепьяно собственные обработки белорусских народных песен, хорошо разбиралась в литературе.
Казалось бы, поначалу, с первого взгляда, она не произвела на Адама сильного впечатления, но потом… Он был сражен в самое сердце! Да и Марыля отнюдь не осталась равнодушной к вниманию этого юноши «с черной шевелюрой, с глазами то голубыми, то зелеными, то темными и блестящими», которого сразу же взяла под свою опеку, ибо сердцем почувствовала, кем ему суждено стать в будущем.
С каждым его приездом прогулки по окрестностям Тугановичей становились все более продолжительными. Марыля и Адам любили сидеть на берегу речки Сервечи, слушать голос мельниц, бывали в соседних деревнях и фольварках, на Свитязи. Приходили к камню у деревни Карчова, что доныне прячется в овраге и в народе именуется «камнем филаретов»: около этого каменного исполина собирались «любители добродетели», или по-гречески «филареты», — члены вольнолюбивого студенческого общества, к которому принадлежал и Адам.
Все это позднее найдет отражение в ІV части поэмы «Дзяды» — поэмы любви, равную которой непросто сыскать в мировой литературе. Скрытые туманом времени, волнующие встречи Адама и Марыли в Тугановичах всплывут затем поэтическим парафразом в «Пане Тадеуше», когда рука Мицкевича будет живописать встречи героев поэмы Тадеуша и Зоси, рождая строфы ослепительной красоты.
Особенно часто молодые беседовали о литературе. Марыля с восторгом говорила о новых произведениях и поэтических направлениях, сознательно толкала Мицкевича на путь романтизма. Благодаря ей, признавался он позже, в Тугановичах над ним разбился «стеклянный шар, наполненный поэзией». Постепенно обыкновенная юношеская увлеченность перешла в «вулканическое чувство».
В парке стояла беседка, укрытая шестью растущими из одного корня липами, словно по волшебству вставшими в круг. В ней часто шептались Марыля и Адам в лунные вечера, засиживаясь допоздна. Об этих деревьях не раз вспомнит поэт на чужбине, обращаясь к ним как к «друзьям своим старым» и вопрошая их, живы ли они еще. На этот вопрос сейчас можно ответить так: от старых лип до наших дней осталось немногое... Печаль-кручина, по-белорусски — туга, сжимает сердце, когда бродишь по Тугановичам, приближаясь к тому месту, где стояла «беседка Марыли», названная поэтом «колыбелью счастья и могилой».
...Над их любовью сгущались тучи. Могли ли всерьез воспринимать родные Марыли в качестве ее жениха магистра философии, который имел поэтическую душу и землю где-то там, на Парнасе? Тем более что на жизненном горизонте семейства Верещаков ясно обрисовалась фигура богатого молодого красавца графа Вавжинца Путткамера. Обеспокоенный успехом Мицкевича, он удвоил усилия. Наконец Марыля дала согласие стать его женой. Их бракосочетание состоялось в феврале 1821 года — и повергло поэта в отчаяние, грозившее перерасти в самоубийство...
И все-таки судьбе было угодно, чтобы из-под пепла этой страсти проросли редкостной красоты цветы той любовной лирики, благодаря которой Мицкевич остался в памяти потомков как Чародей поэзии. Его алмазный талант получил свою огранку тут, в Тугановичах. Воспоминание об этом романтическом чувстве он пронесет через всю жизнь. Оно, это чувство, будет вдохновлять его лиру, рождая ее божественные, бессмертные звуки...
Пройдут годы, и признанный мэтр литературы, обремененный семейными заботами, познавший вкус славы, напишет Игнату Домейко из швейцарской Лозанны, где его — уже, пожалуй, в последний раз — коснулось крыло вдохновения: «Часто нападает тяжелая тоска по Литве, и все время вижу во сне Новогрудок и Тугановичи». Так образ Марыли слился для поэта с образом Родины — «земли Новогрудской»…
Закончив в Париже свою главную поэму, он женится на Целине Шимановской, с которой познакомился в Москве в 1828 году, когда она была еще совсем девочкой, дочерью польской пианистки-виртуоза и композитора Марии Шимановской. Через год свою первую дочь он назовет Марией, но не в память о знаменитой бабушке. В память о Марыле, чей медальон будет у него на груди до конца дней его...
Марыля переживет и поэта, и мужа. Она будет похоронена в 1863 году у стен костела в Беняконях, что в Вороновском районе, у самой границы Беларуси и Литвы. Прах Мицкевича обретет вечный покой среди королевских гробниц на краковском Вавеле.
Вот мы и подошли к концу жизненного пути нашего героя. Но — не будем торопиться! Ведь «шлях Мицкевича» выведет нас сейчас к началу начал...
Экскурсия "Веков минувших великаны (Адам Мицкевич)". Маршрут СБ-3.1: Вольно — Заосье — Городище — оз. Свитязь — Новогрудок https://viapol.by/assembly/3.1.htm
Продолжение следует |
15 декабря 2018 г. В сладком плену легенд.
Поведать о колдовских красках, звуках, запахах Свитязи, не прибегая к волшебству мицкевичских строф, — непосильная задача.
Мiж дрэў, бы ў вяночку, адкрыецца воку
Там возера Свiтязь, як дзiва.
Бы хтосьцi чысцюткую шыбу звысоку
Сюды апусцiў беражлiва.
А Мицкевич
Родились эти поэтические чары под пером 22-летнего Адама и были внушены ему неотразимой красотой здешних пейзажей. Сколько раз любовался он ими, часами просиживая на берегах Свитязи, слушая шепот ее волн! Волны по-прежнему ласкают белый песок, и он переливается жемчугом рифм мицкевичских баллад — «Свитязь», «Свитязянка», «Рыбка». В них все напоминает о возлюбленной Адама — Марыле Верещака, которую он делает родственницей русалок и наследницей легендарного князя Тугана.
Здесь впервые услышал он рассказ старого рыбака о возникновении озера в те далекие времена, «когда вода еще была молодой». Издавна бытовало тут множество легенд об озере, о затопленном на его дне Свитязь-граде, о русалках, живущих в хрустальных озерных водах. Наслушавшись этих рассказов, Марыля как-то раз во время прогулки по берегу озера воскликнула, обращаясь к своему спутнику: «Вот это поэзия! Напиши что-либо подобное».
Вчерашний виленский студент, занимавшийся стихосложением по канонам эпохи Просвещения, наказ возлюбленной воспринял сердцем — чувства станут теперь водить его пером. Предания, легенды, сказки о Свитязи, сложенные белорусским народом, Мицкевич отлил в безупречные стихотворные формы своих баллад, сделав опоэтизированный фольклор достоянием огромного числа читателей.
Как ни жаль, но простимся с очаровательным озером. И вскоре за Свитязью, у деревни Микуличи, свернем влево с Барановичского шоссе — через десяток километров окажемся в Воронче, бывшем имении последнего новогрудского воеводы, генерала литовских войск, кавалера орденов Св. Станислава и Белого Орла Юзефа Неселовского. Это о нем поэт скажет читателю: «Сто сорок егерей в его именье панском и сто возов сетей при замке Ворончанском…»
О большом и уютном деревянном дворце Неселовских с ломаной крышей, мансардами, портиками, густо увитыми зеленью, сегодня можно судить лишь по старым гравюрам и довоенным фотографиям. До неузнаваемости измененными дошли до нас некоторые постройки усадьбы. Но по-прежнему в Воронче можно увидеть усадебный парк и костел Св. Анны, заложенный в стиле классицизма в конце ХVІІІ века на средства старосты циринского Казимира Неселовского, приходившегося дядей Юзефу Неселовскому, погребенному в крипте храма в 1814 году в возрасте 86 лет. Забегая вперед, отметим также, что именно в этом костеле 1 января 1800 года была крещена будущая героиня нашего повествования — Марыля Верещака.
Жестокий нрав Юзефа, обидчика крестьян и мелкой шляхты, которая подала на него в суд и благодаря отцу поэта выиграла процесс, был хорошо знаком Адаму и нашел свое отражение в образе Призрака злого пана во ІІ части поэмы «Дзяды». В ворончанском костеле был крещен и Ян Чечот, коему выпала неожиданная роль редактора поэмы «Дзяды». Впрочем, по словам Игната Домейко, Ян Чечот был единственным, кому позволялось «бурчать на Адама, упрекать его и делать ему замечания».
Из Ворончи дорога, петляя, ведет в Цирин, лежащий над рекой Сервечью. Местечко это тоже принадлежало Неселовским, имело самоуправление и даже свой герб, дарованный королем Станиславом Августом Понятовским. Прежде была здесь униатская церковь, священником при которой состоял Иван Горбацевич, опекавший юного Адама. Ему поверял поэт тайны своего сердца. Его же упомянет он в балладе «Свитязь», и, как полагают литературоведы, Горбацевич станет прообразом Ксендза в ІV части поэмы «Дзяды», отразившей душевный разлад Мицкевича с миром после потери своей возлюбленной. В уста лирического героя Густава вложил поэт всю бурю страстей, бушевавших в нем самом…
А вспыхнуло пламя его первой любви-страсти неподалеку от Цирина — в Тугановичах. Это былое родовое гнездо Верещаков расположено вблизи деревни Карчово, на самой границе Брестской и Гродненской областей. Напоминанием об имении остался лишь полузаброшенный парк. Сюда Адам Мицкевич попал по приглашению Томаша Зана, который в Минской гимназии подружился с братьями Михалом и Юзефом Верещаками. В Тугановичи Адам часто наезжал в летние месяцы 1818—1820 годов — сначала из Вильни, где заканчивал университет, а затем из Ковны, где преподавал в гимназии.
Отсюда взяты прототипы многих его поэтических образов. По мнению литературоведов, на фоне тугановичской усадьбы и разворачиваются основные события в поэме «Пан Тадеуш». Стояла усадьба среди парка, в окружении беседок и прудов, взятая в кольцо кустами сирени, жасмина, акаций… Вместе с поэтом здесь бывали его друзья Томаш Зан, Игнат Домейко, Ян Чечот и другие. Здесь Мицкевич познакомился с Марылей Верещака, любовь к которой пронес через всю жизнь. Вот что поведал о ней родственник Верещаков, кузен Марыли — Игнат Домейко:
«Она не была красива в том смысле, какой вкладывают в это слово обычные люди: невысокая, круглолицая, с большими голубыми глазами и светлыми волосами; особенно чудными были ее губы и взгляд. Последний свидетельствовал о ее живом восприятии, определенном характере души и глубоком чувстве. Ее красота была не в форме, а в духе. Она, наверное, довела бы до отчаяния самого лучшего художника, который захотел бы передать в ней то, что было в ней действительно красивым и что в ней видел и понимал Адам».
Впрочем, о музе поэта поговорим подробнее в следующий раз.
Экскурсия "Веков минувших великаны (Адам Мицкевич)". Маршрут СБ-3.1: Вольно — Заосье — Городище — оз. Свитязь — Новогрудок https://viapol.by/assembly/3.1.htm
Продолжение следует |
3 декабря 2018 г. В сегодняшней Березе эти величественные руины — главная историческая реликвия. И напоминают они о некогда знаменитой на всю округу… да что там — о единственной во всем Великом Княжестве Литовском обители картезианцев. Монахи появились тут при подканцлере Казимире Льве Сапеге, который в 1648 году начал в Березе строительство картезианского монастыря, вскоре ставшего средоточием жизни местечка. Не удивительно поэтому, что Березу со временем даже переименовали, сообразно названию обители, в Березу Картузскую, или Картуз-Березу. Кстати, одна из двух железнодорожных станций в районном центре до сих пор называется Березой Картузской. А двойное наименование города исчезло только в 1940 году!
Орден картезианцев был основан святым Бруно Кёльнским. В 1084 году на юге Франции, под Греноблем, в гористой местности Шартрез (по-латински — Cartusiа) он с единомышленниками основал пустынь, получившую позже название Великая Шартреза. Устав картезианцев был чрезвычайно строг, и это делало орден крайне немногочисленным, если не сказать — элитарным. Упадок картезианцев приходится на конец ХVІІІ столетия, когда во время революционных потрясений во Франции была разрушена Великая Шартреза и разграблены ее сокровища. Однако и сегодня монастырь действует, оставаясь верным аскетизму основателя: обитель недоступна для публики.
Судьба Березовского монастыря картезианцев тоже не была безоблачной. Возводили его сорок лет на месте, отмеченном мистическим событием: по преданию, неподалеку от Березы произошло чудесное явление деревянного креста с изображением распятого Христа. По этой причине монастырь и его храм были переданы под небесное покровительство Св. Креста. Костел освятили в 1666 году, в шестой день шестого месяца (июня), — трудно сказать, было ли такое скопление шестерок чистой случайностью, или за этим стоит некий таинственный смысл…
Монастырский комплекс включал в себя, помимо жилых зданий и костела с мощной колокольней, многочисленные хозяйственные постройки, пруды, сад. Все это было обнесено каменной стеной и завораживало своей монументальностью и архитектурной выразительностью. Об удивительно живописном облике этого интереснейшего архитектурно-ландшафтного комплекса мы можем сегодня судить по рисунку второй половины ХІХ века кисти Наполеона Орды да по чудом сохранившимся в архивах обмерным чертежам монастыря, сделанным в 1830-х годах.
Первые серьезные испытания выпали на долю обители во время Северной войны (1700—1721). Амбициозной целью 18-летнего шведского короля Карла ХII в этой военной кампании было, как считают современные исследователи, возобновление древнего пути викингов «из Варяг в Греки», что соединило бы шведскую Ригу с турецким Константинополем (ныне — Истанбулом-Стамбулом) и богатейшими восточными рынками. В осуществлении этой идеи Великой Швеции «северному Александру Македонскому» противостояли: с одной стороны, русский царь Петр I, коему необходим был выход к Балтийскому морю; с другой — союзник Петра I король польский и великий князь литовский Август II Сильный, на свой страх и риск, без согласия магнатов и шляхты Речи Посполитой, ввязавшийся в военную авантюру, которая стоила Беларуси огромных жертв и разрушений, ибо декорацией к театру военных действий стала ее территория.
По уверению некоторых источников, в Березе встретились для беседы Петр І и Август ІІ накануне подхода войск Карла ХІІ. Правда, в летописи монастыря, равно как и в биографии Петра І, эта встреча не значится. Но что достоверно известно, так это то, что в апреле 1706 года под Березой шли бои между шведами и русскими войсками и после осады местечка Карл ХІІ отдыхал в монастыре 18 апреля, истребовав у монахов немалый выкуп за освобождение обители, а затем двинулся по направлению к Пинску и, удивленный необозримыми водными просторами Полесья, задержался там аж на целый месяц…
С падением Речи Посполитой (1795) Береза оказалась в границах Российской империи. После «Листопадовского» восстания 1830—1831 годов царские власти монастырь закрыли — так завершилась почти двухвековая история пребывания картезианцев на белорусской земле. И похоже, в воспоминаниях о них в Березе на этом можно было бы поставить точку. Но! Двигаясь причудливо-извилистой дорогой исторических ассоциаций, мы совершенно неожиданно окажемся сейчас не где-нибудь, а на испанском острове Майорка!..
Зимой 1838/1839 года майоркское общество было немало взволновано, возмущено, шокировано... Экстравагантная пара иностранцев, первоначально появившаяся в столичной Пальме, а затем перебравшаяся в прелестный горный поселок Вальдемоссу, служила предметом бесконечных пересудов. Он, полуполяк-полуфранцуз, 28-летний холостяк с нервно-бледным меланхолическим лицом, обрамленным длинными волнистыми волосами, слыл талантливым композитором и виртуозным пианистом. Она, старше его на шесть лет, уже пережившая бурный брак с бароном Казимиром Дюдеваном, от которого с нею остались дети, — известная в парижских салонах писательница и публицистка, чье пылкое и быстрое перо плодовито умножало год от года все новые тома любовных романов. Каково же было майоркским матронам (да только ли им?) лицезреть женщину по имени Жорж, в мужском платье, с сигарой в зубах и демонстративно грубыми манерами, в обществе молодого человека и ее собственных детей, которые как будто намеренно подчеркивали всю ирреальность этих совершенно немыслимых для добропорядочных сеньор и сеньоров отношений!
По прошествии многих лет майоркцы не без лукавой иронии говорят о том, что эта пара — Фридерик (в польском написании его имени) Шопен и Жорж Санд — и стала по существу первыми настоящими туристами на Майорке, за которыми потянулся неиссякаемый поток последователей, уже едва ли способных сегодня поразить островитян своими нравами. Здесь на многое насмотрелись и теперь многое могут в свою очередь показать заморским гостям. Но почти двести лет тому назад...
Впрочем, время, кажется, остановилось в Вальдемоссе. Все так же прозрачен и чист воздух, настоянный на аромате цветущего миндаля; все так же величественна и неотразима в своей простоте и редкостном архитектурном обаянии знаменитая «Картуха» — Картезианский монастырь, перестроенный монахами в конце ХІV столетия из бывшего королевского дворца и ставший на несколько зимних месяцев приютом для знаменитостей, которым суждено было покинуть этот мир, так и не разобравшись в своих страстях и привязанностях. Пораженные красотой здешних мест, они отдали им должное в своем творчестве. Ведь именно здесь, в Вальдемоссе, родились шопеновские прелюдии и жорж-сандовская акварель в прозе «Зима на Майорке». «Майорка ― это зеленая Гельвеция под небом Калабрии с покоем и тишиной Востока», ― заметит Жорж Санд.
Откровенно говоря, не гладко протекала их жизнь в стенах Картухи, где теперь создана музейная экспозиция в их честь. Та «роковая дружба», как окрестила писательница свои отношения с Шопеном, отбрасывает и доныне неизгладимую, зыбко-романтическую тень на седые камни Вальдемоссы. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше» — эти евангельские слова начертаны на доске, закрывающей нишу в одной из колонн костела Св. Креста в Варшаве, где почило сердце Фридерика Шопена. Частица же его сердца (смею думать, основываясь на личных впечатлениях от острова и обители) принадлежит все-таки и неподражаемой Майорке с ее всепокоряющей музыкой, которую рождают здешние горы, сказочные бухты, древние памятники, шепот моря при фосфорическом свете задумчивой луны...
Однако что же общего между белорусской Березой и испанской Вальдемоссой, столь произвольно, казалось бы, соединенных пером автора в этом сюжете? Прежде всего, их роднят картезианцы, чьи монастыри были очевидцами и важных исторических событий, и завораживающего присутствия знаменитых личностей. И пусть судьба этих обителей сложилась так, что одна из них ныне прискорбно лежит в руинах, а другая едва вмещает в себя неубывающий с годами поток туристов, тем не менее обе они дарят неравнодушному человеку незабываемые впечатления, наполняя мертвые камни жизнью, словно по волшебству рождаемой историческими ассоциациями...
Экскурсия "Картезианцы в Березе". Маршрут 1.27: Ружаны — Пружаны — Береза https://viapol.by/corporate/bel-1.27.htm |
20 ноября 2018 г. «…Шляхетский старый двор
стоял в былые годы»
А Мицкевич
По выходе из Новогрудка, слева от дороги на Барановичи (Р5), прежде можно было увидеть лес Гнилица. Его не забыл упомянуть Адам, сочиняя свою мистическую балладу «Тукай, или Испытание дружбой»:
Над балотам дождж iмглiцца...
Прамiнулi ўжо Гнiлiцу
І Калдычаўскiя хвалi.
Мы вернемся еще к этим стихам — за Колдычевом, у фольварка Заосья, где родился поэт. А сейчас приглядимся к придорожному селу Зубково, упомянутому в четвертой главе «Пана Тадеуша». Ксендз Робак, заведя в корчме разговор о непобедимом императоре французов, роняет в души своих слушателей, коих потчует «табаком из Ченстохова», надежду на то, что «нетрудно москалей разбить с Наполеоном». Воодушевленные такой перспективой, они наперебой предлагают ксендзу свое гостеприимство…
Поэма «Пан Тадеуш» — самое известное произведение Мицкевича: она была переведена на 33 языка мира и многократно представлена своей остросюжетной фабулой как на театральной сцене, так и на киноэкране. Ее главный персонаж получил свое имя в честь Тадеуша Костюшко, руководителя восстания 1794 года, в котором принимал активное участие и отец поэта. Написанная сразу же после подавления «Листопадовского» восстания 1830–1831 годов, эта поэма являет собой эпическое полотно жизни ополяченной белорусской мелкопоместной шляхты. Во всей неувядающей свежести и красоте, во всей пластической выразительности своих очаровательных пейзажей природа Новогрудчины предстала со страниц этого произведения, написанного как будто на одном дыхании. 11 тысяч строф менее чем за год! Это был ошеломляющий темп. Поэт писал — и воображение переносило его из Парижа, который шумел за окнами его кабинета, на новогрудские просторы. Его перо не знало устали...
На страницах поэмы мы находим описание шляхетской усадьбы Соплицово, сделанное Мицкевичем, по мнению литературоведов, с Чомброва, откуда происходила мать Адама — Барбара Маевская. Она родилась в семье чомбровского эконома Матеуша Маевского. И хотя красавица Бася, как ее по-домашнему именовали в семье, была бесприданницей, Миколай Мицкевич, познакомившись с ней в доме новогрудского судьи Юзефа Узловского, которому принадлежал Чомбров, влюбился в нее по уши и в своем выборе не ошибся. Барбара стала для своего мужа и любящей женой, и другом, и помощником. Она родила ему пятерых сыновей — Франтишка, Адама, Александра, Ежи и Антона (последний умер в возрасте 5 лет), рачительно вела домашнее хозяйство, поддерживая в доме атмосферу дружелюбия и взаимопомощи. А владелица Чомброва Анна Узловская стала крестной матерью Адама.
Чомбров находится справа от дороги Р5, в полутора километрах от Валевки. (К сожалению, от имения до наших дней почти ничего сохранилось. Ныне там деревня Радогоща.) Валевка же упоминается в постановлении Минского окружного суда от 1808 года о восстановлении отца поэта в правах дворянина. Здесь когда-то жили предки Мицкевичей. И потому совсем неспроста Адам привел сюда, если верить литературному преданию, своего героя Тадеуша и его возлюбленную Зосю венчаться в местный костел.
Еще в 1685 году в Валевке воеводой брестским Стефаном Курчем был основан Троицкий костел и монастырь доминиканцев. Монастырь царские власти закрыли в 1832 году. Тогда же костел переосвятили в Петро-Павловскую церковь. При этом храм претерпел существенные перемены в своем облике: в 40-х годах ХІХ столетия перестроили его главный фасад, убрав башни и звонницу, что размещалась во фронтоне в виде трехпролетной аркады. В 1870-х годах над центральной частью храма сделали главку, а 60 лет спустя пристроили трехъярусную четвериковую колокольню в виде отдельного объема. В те же годы сюда привезли из Варшавы царские врата из разобранного православного собора Св. Троицы. Сегодня эти врата — украшение интерьера церкви.
Несмотря на все перестройки, облюбовавший пригорок храм, как и прежде, своим выразительным силуэтом доминирует над здешними околицами, драгоценным украшением которых служит легендарно известное благодаря перу Мицкевича озеро Свитязь. Оно расположилось в пяти километрах от Валевки, у самой дороги, отделенное от нее чередой крепышей дубов. Его изумительная панорама непременно заставит остановиться любого путника…
Экскурсия "Веков минувших великаны (Адам Мицкевич)". Маршрут СБ-3.1: Вольно — Заосье — Городище — оз. Свитязь — Новогрудок https://viapol.by/assembly/3.1.htm
Продолжение следует |
2 октября 2018 г. Я душою ў радзiме разлiўся да скону,
Сам прыняў яе душу,
Край i я — неадлучны.
А. Мицкевич
В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича. В связи с этой датой 6-7 октября в Новогрудке пройдет Первый международный Мицкевичский праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…». Торжества, посвященные поэту, продлятся на его родине до 24 декабря — до того дня уже в календаре 1798 года, когда будущий гений мировой поэзии явился в мир на новогрудской земле. В канун мицкевичского юбилея мы пройдемся по тем дорогам и тропкам, по которым некогда прошел сам Адам…
А перед началом этого путешествия откроем его первый сборник поэзии «Баллады и романсы», отпечатанный в мае 1822 года в виленской типографии в количестве 500 экземпляров. Сборник начинался балладой «Пролеска», названной так по первому — трогательному своей хрупкостью — весеннему цветку, который можно вплести в венок. Весенним венком в поэзии суждено было стать и самому сборнику.
Молодежь с огромным воодушевлением приветствовала это наступление весны — она «почувствовала себя всем в Отечестве, в патриотизме, в литературе», — замечал один критик. И — он же бросал тяжелые камни в автора сборника, именуя его «последователем всех немецких, английских поэтов и ненавистником греков, римлян и французов», который «копался в злодеяниях средних веков, поднял бунт против разума», «перевернул сразу всю классическую литературу» и побудил молодежь «хватать его отравленные сочинения»… Назвал сей критик (да если бы он был только один!) и имя этого «демона»: Мицкевич…
Так, в борении нового со старым, под восторженные аплодисменты друзей и единомышленников и при злобных улюлюканьях ретроградов и завистников, явился на поэтической арене гладиатор-литвин, который во всей несокрушимой мощи своего таланта находится на этом ристалище доныне…
Он — наш земляк. Наш Современник. Наша Слава. Наше Слово.
«…Наваградак з даляў маячыў мурамі —
Літвы тагачаснай сталіца»
Начавшись на Новогрудчине, мицкевичские пути-дороги пролегли через Вильню, Ковну, Петербург, Одессу, Крым, Москву, Берлин, Дрезден, Веймар, Прагу, Рим, Неаполь, Венецию, Женеву, Цюрих, Лозанну, Брюссель, Париж, Лондон, Константинополь...
Бешено вращавшееся колесо судьбы, увлекая Мицкевича за собой, испепеляло его сердце любовью — и ставило поэта на грань полного отчаяния; дарило ему поразительные встречи-знакомства — и погружало его в преисподнюю мистики; толкало бывалого пилигрима то в мудреные житейские лабиринты, то в омут политических страстей, то на аудиенцию к Папе Римскому Пию IX — и в конце концов вывело Мастера на европейскую и, шире, мировую орбиту признания и славы. Хватило с лихвой всего!
Но самым трепетным, самым дорогим и незабываемым было для Адама — не правда ли, даже в самом имени его предчувствуется нечто библейски «роковое»?! — начало той дороги, что протянулась через его 57 лет своими бессчетными верстами, милями, лье...
Литературоведы, отталкиваясь от биографических данных поэта, а также от явных и скрытых упоминаний им самим тех или иных мест в его произведениях, насчитали множество белорусских адресов Адама. Большую часть из них мы попытались соединить в «Шлях Мицкевича», дабы, двигаясь по нему, глазами поэта увидеть его «дзяцінства край», что запечатлелся в его душе и памяти и, озаренный светом гения, согретый его любовью, стал родным и близким миллионам людей на земле.
Новогрудок… Какую бы роль ни играл этот город — загадка для историков и поныне! — в далеком или близком прошлом, как бы ни изменяли его статус века, как бы ни отпечатывались на его лице современные будни и ни поглощали город сегодняшние сиюминутные заботы, — он всегда будет городом Мицкевича. Два этих имени — Новогрудок и Мицкевич — навсегда спаяны самой Историей.
Дом-музей А. Мицкевича, руины замка, курганы, древние храмы, старинные кладбища, сама аура этого тысячелетнего города, овеянного воспоминаниями о многих важных исторических событиях и замечательных людях, — все это оставляет неизгладимый след в душе каждого, кто ступает на новогрудскую землю.
Во славу этой земли создал Адам свою непревзойденную поэму «Пан Тадеуш» (1834)— она станет нашим литературным путеводителем на «Шляхе Мицкевича». Своему сладкоголосому певцу Новогрудок воздвиг бронзовый памятник и насыпал рукотворный Курган Бессмертия. От него мы отправимся по следам великого поэта. Сразу же уточним: лишь по некоторым его белорусским следам, ибо собрать их все вместе в один маршрут, увы, никак не получится!
Экскурсия "Веков минувших великаны (Адам Мицкевич)". Маршрут СБ-3.1: Вольно — Заосье — Городище — оз. Свитязь — Новогрудок https://viapol.by/assembly/3.1.htm
Продолжение следует |
23 сентября 2018 г. Смольгаў — Нясвіж — Залучча — Барэйкаўшчына — Вільня
Не я пяю — народ Божы
Даў мне ў песні лад прыгожы,
Бо на сэрцы маю путы
І з народам імі скуты.
Ул. Сыракомля
Як часта і заслужана гучыць на розных экскурсіях гэтае светлае імя — Уладзіслаў Сыракомля!.. У суботу, 29 верасня, спаўняецца 195 год з дня нараджэння паэта. А пачынаўся ягоны лёс у фальварку Смольгаў на поўдні Мінскай губерні. Зараз на тым месцы вёска Смольгава (што ў 16 км ад райцэнтра Любань). У 2003 годзе побач з мясцовай сярэдняй школай, якая носіць імя У. Сыракомлі, пастаўлены ў ягоны гонар мемарыяльны камень. Праз год у школе была адкрыта літаратурная экспазіцыя «Лірнік вясковы».
Смольгаў Кандратовічы — бацькі будучага літаратара, таму і ягонае сапраўднае імя і прозвішча Людвік Кандратовіч — пакінулі, калі малому не было яшчэ і двух гадоў. Маленства яго прайшло на колах, бо, вандруючы, Кандратовічы-арэндатары змянілі нямала фальваркаў. І на ўсё сваё кароткае 39-гадовае жыццё ўпартым падарожнікам застаўся ён сам, шчыра запрашаючы ў вандроўкі сваіх чытачоў. У прынёманскім краі пачаў пісаць — і набыў славу «лірніка вясковага» ды свой знакаміты псеўданім — Уладзіслаў Сыракомля…
Абсяг ягонай нястомнай дзейнасьці здзіўляе і сёньня. Ён пісаў лірычныя вершы і паэмы, народныя гутаркі і песні, краязнаўчыя нарысы і дарожныя нататкі, гістарычна-літаратурыня даследванні і публіцыстычныя артыкулы, апавяданні і фалькларыстычныя працы, перекладаў з лацінскай, французскай, нямецкай, англійскай, іспанскай, рускай, украінскай моў. На жаль, яшчэ і дасёння не сабрана і недастаткова вывучана его літаратурная спадчына.
Пасля смерці — на працягу тыдня! — трох дачок, якіх ён пахаваў непадалёк ад фальварка Залучча (пад Міром, каля сённяшней вёскі Беражна), дзе пачалася ягоная літаратурная дзейнасць і дзе заставацца ён больш не мог з-за цяжкіх успамінаў аб гэтай страце, Сыракомля прыязджае ў верасні 1852 года спачатку ў Вільню, а потым, у красавіку наступнага года, — у сціплы, узяты ім у арэнду фальварак Барэўкаўшчына, што зараз месціцца амаль побач з беларуска-літоўскай мяжой, каля Рукойнаў (па-літоўску — Рукайняй).
Прыязждае Сыракомля сюды з 25-гадовай жонкай Паўлінай з Мітрашэўскіх (яны пабраліся шлюбам у 1844 годзе ў нясвіжскім касцёле Божага Цела), сынам Уладзікам, якому было толькі 4 гады, і памочнікам-сакратаром Вінцэсем Каратынскім, якому ішоў 22 год. Вінцэсь быў добрым каліграфістам і, седзячы за адным сталом з Сыракомлем, перапісваў творы свайго, так бы мовіць, «патрона», а таксама адказваў на шматлікія лісты, адрасаваныя паэту, дый сам паступова далучаўся да паэзіі, да літаратуры ўвогуле.
Дзесяцігоддзе паэта ў Барэйкаўшчыне і Вільне было ўзмацненнем у яго творчасці грамадскіх матываў. У 1853 годзе ў Пецярбургу вышла яго паэма-гутарка «Дабрародны пан Дэмбарог», у Вільні ўбачыла свет краязнаўчая кніга «Вандроўкі па маіх былых ваколіцах», якая перавыдаецца і да нашых дзён вялікімі накладамі! Гэта кніга нібыта сунімала тугу Уладзіслава па мясцінах маладосці, зноў і зноў вяртаючы яго ў родныя ваколіцы: Нясвіж, Стоўбцы, Мір, Койданаў… І як працяг «Вандровак…» быў задуманы і неўзабаве напісаны нарыс «Мінск», у якім ён адзначыў: «Мінск я люблю як сталіцу правінцыі, дзе нарадзіўся. Вільню — як сталіцу майго краю, не ўмею адрозніваць адной любові ад другой».
У 1856 годзе Сыракомля выехаў з Барэйкаўшчыны ў сваё першае падарожжа ў Варшаву. Прывёз туды свае творы для сцэны і вынес уражанне, што яго творчасць у сталіцы Польшчы ведаюць не горш, чым на радзіме. Яго запрашалі на прыёмы, вялі перагаворы пра супрацоўніцтва ў розных перыядычных выданнях, нарэшце, запрашалі стаць рэдактарам газеты і пераехаць на сталае жыхарства ў Варшаву. Але ён адмовіўся, бо, як адзначаў, «сум па радзіме, па сваіх, па Вільне забіў бы мяне».
Між тым разгараецца полымя яго «рамана» з Геленай Маеўскай, жонкай вядомага ў краі этнографа, гісторыка і выдаўца Адама Кіркора, у віленскім літаратурным салоне якога яны і пазнаёміліся. Гэтае каханне двух вольных натур — паэта і актрысы — успыхнула насуперак халоднаму розуму, насуперак бытавой логіцы, але ў поўнай згодзе з іхнымі пачуццямі.
Гелена пакінула мужа і паехала ў Кракаў, што быў пад Аўстрыяй. Потым скіравалася ў Познань, якая ўваходзіла ў склад Прусіі. Сыракомля рушыў услед за ёй у Познань ў 1858 годзе… З часам гэтае каханне абрасло ў вуснах розных каментатараў, часцей недабразычліўцаў і ханжэй, плёткамі і легендамі... Муж прыгажуні ўжо збіраўся абараняць свой гонар на дуэлі з Сыракомлем, але дуэль не адбылася: Гелена разбіла сэрцы абодвум…
Летам 1858 года Сыракомля і Маеўская развіталіся ў Варшаве, не ведаючы, што больш яны ўжо ніколі не сустрэнуцца. Пад канец жніўня таго ж года Сыракомля зноў быў у Барэйкаўшчыне. Ягоны бацька памёр, вестку пра што ён атрымаў яшчэ ў дарозе. Стомлены дарогаю і нервовым напружаннем, засмучаны жалобаю па бацьку, няпэўнасцю стасункаў з Геленай, паэт упаў у дэпрэсію. А тут яшчэ запрацавала чыноўніцкая машына «Слово и Дело»…
Паездка Сыракомлі ў Познань і ягоныя сустрэчы там з дзеячамі нацыянальна-вызваленчага руху сталі прадметам дэталёвага абмеркавання віленскага і пецярбургскага паліцэйскага начальства. У ягоных вершах літаратуразнаўцы ў пагонах знайшлі «шкодны кірунак». За ім быў устаноўлены сакрэтны нагляд. Паперы-даносы збіраліся спакваля ў добры стос. Калі Сыракомля нелегальна (бо ягоны пашпарт быў ануляваны, але ж ён не без рызыкі раздабыў другі ў Коўне) трапіў за мяжу, яго арыштавалі і даставілі ў Вільню. Хворага на сухоты паэта амаль месяц трымалі ў віленскай турме. Пасля, да заканчэння следства, яму дазволілі жыць пад наглядам паліцыі ў Барэйкаўшчыне, а пазней — пераехаць на лячэнне ў Вільню. 15 верасня 1862 года трапяткое сэрца вясковага лірніка перастала біцца ў Вільні — у доме, які захаваўся да нашага часу і адзначаны мемарыяльнай дошкай (вул. Барбары Радзівіл, 3). Прыяцелі ўсклалі яму на чало лаўровы вянок…
Але ж нагляд за ім, як гэта ні парадаксальна, быў спынены не са смерцю, а толькі праз тры дні — з пахаваннем. Вось што пісаў на гэты конт віленскі жандармскі штабс-афіцэр палкоўнік Лосеў: «6 верасня (па ст. ст.) у Вільні адбылося ўрачыстае пахаванне знакамітага польскага паэта Кандратовіча, вядомага ў літаратурным свете пад псеўданімам Сыракомля. Людзей сабралася вельмі многа, да 10 тысяч, нават з суседніх губерняў прыехала шмат асоб, каб аддаць апошнюю пашану яго таленту…»
У гэтым запісе не было аднаго, што засведчылі, аднак, тыя, хто ішоў за труной паэта. Калі пахавальная працэсія рушыла па вуліцах Вільні ў бок могілак Роса, высока ў небе ляцеў у вырай жураўліны ключ, развітаючыся з радзімай і яе песняром жалобным курлыканнем…
Польская, беларуская, літоўская моладзь Віленшчыны сабрала сродкі на памятны камень у гонар Сыракомлі. Ён быў пастаўлены ў Барэйкаўшчыне ў 1899 годзе. Ушанаванне памяці Сыракомлі адбылося таксама ў 1908 годзе, калі былі ўсталяваны мемарыяльныя дошкі ў касцёле Св. Яна ў Варшаве, а яшчэ раней, у 1902 годзе, — у касцёле Божага Цела ў Нясвіжы. З цягам часу з’явіліся вуліцы Сыракомлі ў Варшаве, Вільнюсе, Нясвіжы, Мінску, Навагрудку, Гродне... У 1993 годзе быў адкрыты бюст Сыракомлі ў Старым парку Нясвіжа. У Барэйкаўшчыне супольнымі намаганнямі аматараў паэзіі ў ягоны гонар створаны музей. Здаецца, збылося тое, пра што казаў Янка Купала стагоддзе таму:
Будзеш жыць! Будуць векі ісці за вякамі, –
Не забудуцца дум тваіх словы,
Як і слоў беларускіх, жывучы паміж намі,
Не забыўся ты, Лірнік вясковы.
Экскурсія "Памятники Мира и Несвижа". Маршрут СБ-1.1: Мир — Несвиж https://viapol.by/assembly/1.1.htm |
17 сентября 2018 г. Дорогу из Крево в Сморгонь, длиной в 25 км, делит пополам деревня Новоспасск, где в июне 1917 года, в ходе Первой мировой войны, произошло знаменательное событие — бой женского «батальона смерти». Об этом бое скажем ниже, а сейчас стоит упомянуть о том, что с осени 1915 года у Крево пролегла линия фронта, которая делила позиции немецкой и русской армий. И вдоль дороги, до ее реконструкции в конце прошлого столетия, можно было видеть немало бетонных дотов, словно специально поджидавших в кустах и среди деревьев безмятежного путника, у которого при виде этих дотов сами собой возникали недоуменные вопросы: что это и почему здесь? Сейчас эти живые свидетели — а они всё еще тут! — былых жарких сражений после спрямления дороги отошли в сторону от нее — и залегли, окопавшись в лесах…
Вернемся, однако, к женскому батальону. С патриотической инициативой о создании такого батальона, который поднял бы боевой дух мужчин, уже почти второй год гнивших в траншеях и блиндажах вдоль линии разделения, выступил 36-летний министр-председатель Временного правительства Александр Федорович Керенский (кстати, он родом из Симбирска, откуда был и будущий председатель Совнаркома т. Ульянов-Ленин. Керенский был на 11 лет моложе «вождя мирового пролетариата»). Для практического осуществления этой идеи премьер обратился к 27-летней Марии Бочкаревой. В батальон он привлек свою жену Ольгу, урожденную Барановскую, петербургских институток, представительниц аристократических фамилий, например князей Голицыных. С одной из представительниц этого рода — Натальей Вениаминовной Голицыной, культурологом, художником, дизайнером, мне пришлось побывать в этих местах в 2007 году, ибо исторический эпизод из 1917 года (90 лет как раз тогда исполнилось!) не был забыт Голицыными и ею в частности. Да и то сказать: ведь корни это древнего рода, в гербе которого красуется «Погоня», восходят к Гедиминовичам, а замок в Крево — их рук дело! Увидеть «камни предков» — всегда трепетно. Вот такая — двойная — для Натальи Голицыной приключилась оказия…
Но Мария Бочкарева была слеплена из совсем другого, нежели Голицыны, теста. То была простая сибирячка-крестьянка из-под Томска. В 15 лет Мария Фролкова стала мужней женой Афанасия Бочкарева. С этим горьким пьяницей она вскоре рассталась и ушла уже сожительницей (без церковного брака) к мяснику Яшке Буку. А тот, и того круче, оказался разбойником. После ареста его отправили в Якутск, и Мария, как в свое время жены декабристов, последовала за непутевым сожителем. Его вторично арестовывают за разбой и отправляют в богом забытый сибирский поселок, но Мария и на этот раз следует за ним, чтобы — увы! — нарваться на его кулак… Так неудачно складывалась поначалу жизнь будущей легенды Первой мировой.
Бросив Яшку, Бочкарева попросилась в регулярную армию, что у военных вызвало нескрываемый смех. Ей посоветовали, на крайний случай, сделаться сестрой милосердия. И что же вы думаете? В сердцах Мария отправила телеграмму самому царю Николаю Второму. И — ей ответили монаршим согласием! Так она наконец-то попала в армию, в сугубо мужской коллектив, который тут же начал над нею посмеиваться и, ясное дело, выставлять всякие нескромные предложения… С той поры за нею и закрепилось прозвище «Яшка» — по имени сожителя.
Бочкарева-Яшка оказалась мужественной женщиной и после двух ранений и многих боев была награждена Георгиевским крестом и тремя медалями, а также произведена в старшие унтер-офицеры. Она была из тех русских женщин, о которых Некрасов в своей поэме «Мороз, Красный нос» (1863) за полвека до Первой мировой писал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» А помните ли продолжение этой хрестоматийно известной фразы?
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Красавицей Бочкареву, пожалуй, не назовешь, но что в военной форме она была красива и ловка — вне сомнения! Именно такой необычной женщине и поручил Керенский возглавить экспериментальный батальон с кровожадным названием «батальон смерти». В нем царила жесточайшая дисциплина, и Мария не ограничивала себя разговорами, а когда нужно было, пускала в ход кулаки, точно заправский старорежимный вахмистр. От такой дисциплины изнеженные дамочки-патриотки сбежали, и из 2000 человек осталось 300 бойцов в юбках. Те, что исчезли, составили другой батальон — он охранял Зимний дворец во время Октябрьского переворота.
Батальон Бочкаревой отметился только одним-единственным боем в лесу у придорожной деревни Новоспасск, где о жестоких событиях той военной поры и доныне напоминает изувеченный, словно кровью истекающий краснокирпичный храм, включенный в экскурсию «Тропами Первой мировой» (https://viapol.by/corporate/bel-2.8.htm).
Относительно же самого боя в литературе остались крайне противоречивые отзывы. Официально он был успешен. Неофициально говорят о том, что в реальных боевых условиях женщины смешались, враз позабыли, чему их учили, сбились в кучу, и лишь одна опытная Мария Бочкарева не потеряла самообладания и была контужена взрывом. После этого ее отправили на поправку в петроградский госпиталь, и в столице прапорщик Бочкарева получила звание подпоручика (в теперешней армейской иерархии — младший лейтенант).
Батальон расформировали, однако судьба Бочкаревой продолжала идти во восходящей. Зимой 1917 года, уже после прихода к власти большевиков, она отправилась в родной Томск, но в дороге была задержана, чудом избежала ареста и расстрела и, облачившись в наряд сестры милосердия, проехала через всю страну аж до Владивостока. Оттуда отплыла в агитационную поездку в Америку. Из Сан-Франциско добралась до Вашингтона — и 10 июля 1918 года довела до слез рассказами о своей военной судьбе тогдашнего 62-летнего президента США Вудро Вильсона на аудиенции в Белом доме.
Да не только его потрясла она своими рассказами. В Лондоне Мария Бочкарева была принята тогдашним королем Великобритании Георгом V и заручилась его финансовой поддержкой для борьбы против большевиков. Журналист Исаак Дон Леви написал о ней в 1919 году книгу «Яшка», переведенную на несколько языков.
А тем временем Мария вернулась в Россию и встала под знамена адмирала Колчака в Омске. После бегства Колчака сдалась советским властям. И по одной версии ее расстреляли под Красноярском в 1920 году, когда ей шел 31-й год; по другой — из красноярских застенков ее вызволил все тот же журналист Исаак Дон Левин. И вместе с ним она отправилась в Китай, сменила фамилию и, став женой однополчанина-вдовца, всю силу нерастраченной материнской любви отдала сыновьям своего третьего мужа, впоследствии погибшего в Великой Отечественной войне.
Такова жизнь сибирячки, достойная не столько книги журналиста, сколько романа-бестселлера или полновесного сценария для голливудского блокбастера. Впрочем, о ней писали и Валентин Пикуль, и Борис Акунин. О ней упоминалось в популярном телесериале «Адмиралъ» (2009) и в кинофильме «Батальонъ» (2015). Но похоже, Мария достойна большего!
Экскурсия "Тропами Первой мировой". Маршрут СБ-2.8: Крево — Новоспасск — Сморгонь — Солы — Забродье https://viapol.by/assembly/2.8.htm |
11 сентября 2018 г. Нынешний скромный агрогородок под Зельвой — Деречин на высокой драматической ноте завершил в ХIX веке историю взлетов и падений, пожалуй, наиболее политически влиятельных и экономически могущественных магнатов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой — князей Сапег. О них в прошлом поделом говорили: «Сапеги да Радзивиллы баламутили всю Литву». Представители обеих династий живы и сегодня, но, говоря о завершении в Деречине долгой истории Сапег, мы все-таки нисколько не рискуем ошибиться, ибо наследники славного рода теперь уже частные лица и вершители собственных судеб, тогда как прежде все было совсем-совсем иначе…
Село, поместье, местечко — такой путь проделал Деречин за два века с его первого письменного упоминания, прежде чем писарь земский слонимский Константин Полубинский, перейдя из православия в католичество, вместе с женой Софьей Андреевной Сапегой основал здесь в 1618 году доминиканский монастырь с костелом. 70 лет спустя Сапеги из старшей, черейско-ружанской линии рода стали полновластными владельцами Деречина и превратили его в одну из главных своих резиденций.
Случилось это при последнем канцлере ВКЛ из рода Сапег — Александре Михале (1730 — 1793), который в 1786 году заложил в Деречине дворец. Правда, изначально это сооружение предназначалось для так называемой «академии», то есть для обучения военному делу тридцати «курсантов» — сыновей высших государственных мужей ВКЛ. Но прискорбные обстоятельства второго раздела Речи Посполитой (1793) спутали планы канцлера. И его сын, красавец Франтишек, по смерти отца в Варшаве, перебрался из старого родового гнезда в Ружанах в деречинскую усадьбу, превратив «академию» в импозантный палаццо. Прибыл он сюда со своей юной женой Пелагеей Розой, урожденной графиней Потоцкой: ему был 21 год от роду, ей и того меньше — 18. Учился Франтишек без усердия и оттого мало чему научился. Зато волею судьбы стал наследником фантастического состояния да к тому же генералом литовской артиллерии и кавалером Ордена Белого Орла и Ордена Святого Станислава…
Импульсивность была сутью его натуры! Он быстро терял интерес к тому, что еще совсем недавно его будоражило, увлекало, манило. Возгораясь, уже готов был угаснуть... Граф Леон Потоцкий в своих искрометных «Воспоминаниях» мягко журил взбалмошного родственника, в душе искренне любя его: «Князю Франтишеку Сапеге молодая, красивая и добрая жена очень скоро надоела. Денег у него было столько, что он не знал, что с ними делать. Общественных обязанностей у князя не было... и он азартно отдался игре в карты, а в путешествиях по Европе нашел верный способ разогнать скуку... В Петербурге ему было слишком холодно, в Португалии — слишком жарко, в Англии — чересчур сыро. Наконец, в Вильне не с кем было жить, в Варшаве — не с кем играть, и он не раз повторял, что только в Париже и Деречине можно на протяжении нескольких недель жить не тужить... В Деречине можно было встретиться с маркграфами, графами, виконтами с берегов Сены, Луары, а чаще — Гаронны. Не раз заезжали туда, по дороге на Камчатку или Урал, эксцентричный англичанин, итальянец-артист или тот, кто себя за такового выдавал, немец-спекулянт».
Добавим от себя, что в деречинском дворце в 1797 году отметился своим визитом и император Павел I, следуя после коронации из Москвы в Вильню, Гродно, Ковну и в другие города западных губерний. А сам Франтишек стал прототипом одного из персонажей Эжена Сю в его криминально-детективном романе-фельетоне «Парижские тайны», в котором писатель собрал огромную толпу прожигателей жизни, куртизанок, авантюристов и плутов всех мастей. Нашлось там место и для нашего героя!
Пелагея Роза Сапега, веселая и добрая нравом, имела в Деречине собственный двор из таких же молодых и красивых, как она сама, особ. Ее пленяющий волшебной грацией портрет кисти знаменитой художницы Э.-Л. Виже-Лебрен, для которой позировали королева Франции Мария-Антуанетта, польский король Станислав Август Понятовский, леди Гамильтон, мадам де Сталь, лорд Байрон и другие аристократы, получил имя «Деречинская Терпсихора» и сегодня украшает Желтый зал Королевского дворца в Варшаве. Расставшись с ветреным мужем, Пелагея поселилась в Высоком (под Брестом), связав свою жизнь с далеким свояком Франтишека — Павлом Сапегой.
А тем временем владелец Деречина, с облегчением закрыв эту главу своей жизни, вкушал прелести холостяцкого быта и по-прежнему ежегодно курсировал между Деречином и западной Европой, становясь сомнительным героем то одной, то другой авантюрной истории. Всеевропейская «слава» пришла к Франтишеку после победы, одержанной им над самим Наполеоном І — натурально, на любовном ристалище (впрочем, история эта темная — кто и над кем тогда победу одержал).
Деречинский дворец современники именовали «малым Версалем». Украшенный дорическим портиком, он постепенно оброс обширным французским парком с террасами, прудами, оранжереями, бронзовыми статуями Адама и Евы. Княжеские покои и флигеля до краев наполнились историческими сокровищами, такими как уникальные образцы оружия и воинского снаряжения, золотые именные кубки, разнообразная стеклянная и фарфоровая посуда, отлитые из серебра мифологические фигуры для сервировки стола, восточные ковры, шедевры живописного искусства, архивные раритеты etc. В Деречине тридцать лет действовал придворный театр, в котором ставились оперы и балеты, пьесы Руссо и Расина. Здесь был свой зверинец, где среди лосей и медведей жили даже верблюды...
Франтишек Сапега ушел из жизни в 57 лет. Его единственный сын Евстафий Каетан после подавления восстания 1830–1831 годов, в котором он активно участвовал, эмигрировал во Францию и был похоронен в 1860 году на кладбище Монмартр в Париже. (Там же, в Париже, в 1846 году умерла и погребена его мать Пелагея Роза Сапега.) Он не стал менять свое имущество, взятое в секвестр царскими властями, на верноподданническую присягу императору Николаю І. В ответ власти конфисковали собственность Сапег: дворец превратили в казармы, а его содержимое вывезли в Петербург, и не только туда. Однако, несмотря на все сложности, дворец пережил даже Вторую мировую войну, но, увы, был разобран в послевоенные годы. На его месте — пустырь…
...В 2002 году, уже в третий раз, на земле своих предков побывал после долгой разлуки 86-летний князь Евстафий Северин Сапега — праправнук Франтишека Сапеги, автор фундаментальной исторической монографии «Дом Сапежинский» (1995). В его честь в Деречине звонил колокол, отлитый еще в 1717 году и полтора столетия находившийся на колокольне того старого деречинского костела, который прежде был усыпальницей рода Сапег, однако не уцелел, как и доминиканский монастырь рядом с ним, о чем уже упоминалось в начале этих заметок. И вот тут-то в исторической мозаике Деречина сам собой начинает складываться новый пазл-узор…
Дело в том, что в 1772 году Александр Михал Сапега решил увековечить имена своих умерших родственников — отца и двух родных дядей: Юзефа Станислава и Михала Антония — в эпитафии на памятной плите. Надпись была высечена в мраморе на латинском языке. После «Листопадовского» восстания Сапеги оставили Деречин навсегда; в 1866 году костел, уже закрытый, сгорел, а в следующем году был окончательно разобран: его кирпичи… распродали на аукционе. Тем не менее оставался еще монастырь, который просуществовал до 1930 года, и в нем чудом — никак иначе и не скажешь! — сохранилась та самая памятная плита Александра Михала Сапеги.
После уничтожения костела прихожане Деречина и близлежащих деревень, лишившись храма почти на сорок лет, посылали свои челобитные по инстанциям, и только в начале ХХ века новый костел заложили на северной окраине Деречина и в 1913 году освятили во имя Вознесения Пресвятой Девы Марии. А спустя 16 лет в храм была перенесена из доминиканского монастыря неведомо как уцелевшая там эпитафия. Однако новый храм недолго радовал местный люд. Советские власти в 1951 году отдали культовое здание здешнему колхозу под склад. В начале 1960-х годов, после обрушения кровли, склад ликвидировали, и последующие тридцать лет былая святыня находилась в полнейшем запустении…
Наступил 1989 год. И нежданно-негаданно здесь появился известный французский кинорежиссер, продюсер, сценарист Жан Кершнер (Jean Kerchner), намереваясь благоустроить могилы родственников своей супруги Ирины Жуковской, родом отсюда, скончавшейся в Париже в возрасте 63 лет. Во время Второй мировой войны 15-летнюю Ирену угнали в Германию. Из плена ее освободили французские войска, на родину она не вернулась, уехала во Францию, где и познакомилась с Жаном. Оказавшись в Деречине и увидев полуразрушенный храм, Ж. Кершнер решил в память о жене восстановить многострадальный костел за счет собственных средств. Активное участие в этом приняли и прихожане.
Реконструкция храма закончилась в кратчайшие сроки — к 1992 году. Однако при ремонтах рабочие «похоронили» под слоем нового мраморного пола… эпитафию Сапег! Как и почему это случилось — неясно до сих пор, а между тем прошло уже более четверти века. Поиски плиты продолжаются, и, быть может, с помощью современной техники эта проблема в конце концов будет разрешена.
Однако какое же это воистину мистическое стечение обстоятельств, не правда ли?! Сапеги, покинувшие Деречин и нашедшие вечный приют во Франции, — и Франция, протянувшая руку помощи деречинским Сапегам. В этом причудливом пазле недостает пока лишь одного-единственного звена, который придал бы сей исторической игре-головоломке элегантную завершенность…
Увидеть Деречин можно в сборной экскурсии "Зельвенский кирмаш" (Сынковичи — усадьба «Верес» — Зельва — Деречин — Дятлово) https://viapol.by/assembly/1.26.htm |
3 сентября 2018 г. Всякий раз, приближаясь к бывшей советско-польской границе 1921–1939 годов (а она всплывает на всех маршрутах, ориентированных на запад от Минска), мысленно погружаешься в ту противоречивую эпоху, когда на руинах погибших в Первую мировую империй постоянно появлялись и исчезали новые державы: Западно-Украинская Народная Республика, Донецко-Криворожская Республика, Белорусская Независимая Республика, Социалистическая Советская Республика Беларуси, Литовско-Белорусская ССР… Да вот еще в эту строку — Койдановская Независимая Республика (КНР), провозглашенная в октябре 1920 года в местечке Койданово — ныне районном центре Дзержинске! Всего три дня она просуществовала, а заставляет задуматься об очень многом и сегодня — почти сто лет спустя…
В жаркий августовский день этого года у меня в экскурсионном автобусе оказался известный журналист (ныне он работает в газете "Вечерний Минск") и историк Сергей Нехамкин. А с ним точно не соскучишься! И поскольку, проезжая Дзержинск, я вскользь упомянул в своем рассказе о здешней «КНР», завязалась у нас с ним, уже за обедом в Коссово, на родине Тадеуша Костюшко, живейшая беседа. Хочу ею поделиться с заинтересованными этой темой читателями...
– Сергей Владимирович, так все-таки что это было в Койданово три дня и три ночи? С какой стороны к этому стоит подойти?
– Если коротко, это была «республика дезертиров». В июле 1920-го войска Тухачевского понесли на штыках счастье революции Польше. На Висле получили контрудар. Покатились назад. К октябрю стало ясно, что драться дальше ни у тех, ни у других сил уже нет. В Риге начались переговоры, а пока враждующие армии прекратили боевые действия и застыли в ожидании там, где перемирие их застало. Польские и советские позиции вдоль линии фронта разделила 10-километровая «нейтральная зона». Койданово в ней и оказалось. Что такое «нейтральная зона», никто толком не понимал. Да, временное образование. Но чьи законы здесь действуют? Кому подчиняться койдановцам — полякам или Советам? Поляки считали, что им — раз их войска здесь были последними. Большевики — что им: поляки-то по условиям перемирия уже отступили. Красные подсуетились и создали в местечке «ревком нейтральной зоны». Конечно, просоветский. Если объективно, то для любой местной власти наследие было тяжкое: часть домов сожжена, масса семей без крова, голод, тиф…
– А дезертиры, о которых вы упомянули, — они откуда взялись-то?
– Да это пятьдесят-семьдесят хлопцев из Койданово и окрестных деревень, которых раньше то поляки, то красные пытались к себе «мобилизовать», а они и тех и других послали… куда подальше. Сидели по окрестным лесам. Но поздней осенью в лесу холодно — и хлопцы вернулись по домам. Дома они вообще-то никого не трогали. Колупались по хозяйству, вечерами пили самогонку. Ревкомовские обошли несколько дезертирских дворов и велели хлопцам идти в лес пилить дрова. Дескать, дрова нужны «для бедноты и учреждений местечка». Но «нуждами бедноты» тогда объяснялось все. А что такое «учреждения местечка»? Ладно бы больница — но ведь и сам ревком тоже… Вот раз вам надо, так вы и пилите — было ответом ревкомовским. Те обиделись, непокорных арестовали и посадили в подвал ревкомовского здания. Но местечко-то крохотное. В одном конце плюнешь — в другом долетит. Тут же все стало известно. Один из оставшихся на воле дезертиров рванул к местной церкви и бухнул в колокол. Сбежалась родня арестантов, ревкомовским набили морды, потягали за волосы. Дезертиров освободили. А те, не будь дураками, тут же — на всякий случай — сбежали. Причем (враг моего врага — мой друг!) — на польскую сторону, в соседние деревни Дягильно и Яново. Побитые ревкомовские кинулись к своим защитникам. Прискакал из Минска красный отряд — да только дезертиров-то уже ищи-свищи! И оставаться для разбирательства нельзя — зона все же нейтральная, не к чему лишнее время тут торчать. Выматерились, старый ревком объявили не справившимся с революционными задачами — назначили новый, дали десяток винтовок, чтобы выбрали себе милицию, и быстренько убрались…
– Ну и сюжетец!
– Да это только начало! Новые ревкомовские пошли в лес сами. Однако лес принадлежал соседней деревне Рудица. Тамошним мужикам не понравилось, что кто-то чужой на их ельник нацелился. И началась такая буча… Рудицкие в лесу захватили ревкомовских, отвели к полякам в тюрьму. Красные в Койданово захватили пяток местных поляков, устроили обмен. Ревкомовские вернулись и арестовали рудицких… В общем, затянулся такой тугой узел, а разрубили его одним махом те, с кого все и началось: беглые койдановские дезертиры. Они ночью пришли в местечко, похватали по домам ревкомовцев и милиционеров, после чего… Внимание! Взяв в местечке власть, хлопцы провозгласили свое государство — «Койдановскую самостоятельную республику». О чем написали листовки и расклеили их по заборам. За смелым шагом угадывается личность лидера. Дезертирами верховодил Павел Калечиц. Явно колоритный был парень! Такое вот «дитя времени». Грамотнее других (как-никак выпускник местной «высшей начальной школы»), еще в 1918-м, при новопровозглашенной Белорусской Народной Республике, вступил в милицию, стал «абшарником» (вроде участкового). Когда пришли красные, Калечиц при них был уже начальником милиции. Тут явились не запылились поляки. Арестовали, хотели засечь шомполами, да местный ксендз сказал, что хлопец зла никому не делал. Отпустили. Сидел дома. От польской мобилизации сбежал, от советской тоже сбежал… Просто колобок!
– Все это воистину кажется просто каким-то анекдотом!
– Да ведь времена были такие: старые империи рухнули — вот новые границы и стали нарезать по принципу: кто смел, тот и съел. В конце концов, советская Россия с точки зрения международной легитимности тогда была немногим лучше Койдановской республики — Ленина и ленинцев законной властью никто не признавал, да и сами они долгие годы именовали свой захват власти «Октябрьским переворотом».
– А чем же все это закончилось?
– Подобно мушке дрозофиле, которая в краткий срок проживает все стадии жизни (и потому так ценима генетиками), «республика дезертиров» за три дня существования прошла многое из того, что положено государству. Провозгласилась. На следующий день в битве отстояла независимость (красные послали в Койданово грузовик с солдатами, а дезертиры его на подъезде обстреляли из обрезов, и грузовик повернул обратно). Наладила международные связи (хлопцы съездили в Дягильно, где стоял польский форпост, выпили с офицером, договорились дружить). Государство, как известно, «аппарат насилия». Им новая держава тоже успела побывать. Надо было остерегаться красных, но своих ребят не хватало, а народ Койданово (народ — он везде одинаков!) не хотел торчать под открытым небом холодными ночами. Так появились дезертиры от дезертиров. Пришлось местных мужчин выгонять на охрану угрозами и при каждом карауле ставить надежного дезертира (в смысле — бывшего) с плеткой. И все бы ничего, да Койданово было еще и железнодорожной станцией. Отдавать ее непонятно кому красные не собирались. Прискакали кавалеристы 12-го полка 2-й бригады, и новое государство разогнали. Отстреливались лишь Калечиц с десятком хлопцев. Но силы были неравны — сбежали в соседнее Дягильно. А вскоре Койданово по Рижскому миру отошло советской стороне.
– Вы сказали, что дезертиры сделали, и это, ей-богу, впечатляет. А что они не сделали — поставим вопрос так!
– Я просмотрел книги краеведов, пролистал архивные дела, газетные подшивки… Нигде никаких упоминаний, что хлопцы кого-то убили, изнасиловали, ограбили. И евреев местных не трогали — все ж свои, росли рядом! Ну да — пили, гуляли. Держали в подвале ревкомовцев, били им физиономии, грозились расстрелять. Но не расстреляли — может, как знать, забыв за пьянкой… Потому проходивший в 1922 году суд приговоры вынес им в общем мягкие, многих отпустили. А «атаман республики» Павел Калечиц, оказавшись за советско-польской границей, с голодухи связался с тамошней польской разведкой. Ходил на советскую сторону. На базаре в соседнем местечке его опознали. Погиб в перестрелке с чекистами. Это была приграничная зона, потому с середины 1920-х годов Койданово и окрестности советские власти начали капитально чистить. Пошли аресты, высылки... В 1932-м местечко переименовали. Назвали — Дзержинск. Тоже символично!
Вот такая беседа…
NB. Подводя итог, остается только заметить: так на самом деле — в событиях, фактах и лицах — выглядело то, что потом советские историки, следуя цитатам В. Ульянова (Ленина), стали пафосно именовать в своих учебниках словами «Триумфальное шествие Советской власти»… |
23 августа 2018 г. 215 лет тому назад, 26 января (7 февраля по н.с.) 1803 года, был подписан государев указ об основании Минской мужской гимназии. Она стала первым в губернском городе светским средним учебным заведением гуманитарного типа и разместилась на Высоком рынке, как в ту пору именовали площадь Свободы, в старинном здании, возведенном еще в ХVІІ столетии для мужского базилианского монастыря. Здесь Минская гимназия просуществовала до 1844 года, а затем для нее было построено новое двухэтажное каменное здание на углу улиц Захарьевской (проспект Независимости) и Губернаторской (Ленина) — на том месте ныне бульвар, на который смотрят окна дома по ул. Ленина, 9 (да-да, там прежде был офис «Виаполя»!).
Находясь под покровительством Виленского университета, гимназия направляла свои усилия к «дружной, совместной с университетом работе для образования юношества края и распространения общественного просвещения». Курс обучения в шести классах длился семь лет, так как пятый класс был разделен на два года. Некоторое время существовал и подготовительный класс.
Заметим, что по тогдашним правилам гимназист должен был иметь при себе серебряную ложку, вилку, нож, полотенце и шесть салфеток, а от гимназии в свою очередь получал учебники, мундир, сапоги, постельное белье и столование. Число учеников превышало порой и 300 человек. В большинстве своем это были дети шляхты, значительно меньше — сыновья чиновников и мещан.
Обучение чтению, письму и счету не входило в программу гимназии, тем не менее большинство поступающих принималось безо всякой подготовки. И это понятно: начальных школ в городе тогда почти не было, а частные учителя были доступны немногим. Возраст ученика значения не имел. Если в первом классе иные гимназисты оставались порой до 19–20 лет, то окончить курс можно было и к 15 годам.
День учащихся был расписан по минутам. Среди изучаемых ими предметов — древние языки и литература, математика, физика, химия, право, история, география, польский, русский, немецкий, французский языки и другие. Закон Божий поначалу не считался учебным предметом, на него смотрели как на одно из воспитательных средств для укрепления молодежи в религиозно-нравственном отношении, и только к 1825 году его включили в учебный план, поскольку в циркуляре ректора Виленского университета от 1 октября 1823 года было официально признано, что среди учащихся множатся антирелигиозные и антиправительственные настроения. Позже была раскрыта переписка между минскими гимназистами и виленскими студентами. Обнаружилось, что среди старших учеников «циркулируют весьма дерзкие пасквили политического содержания», предпринимались попытки создать тайное общество — словом, давало о себе знать антимонархическое молодежное брожение...
Гимназия просуществовала более века и в 1919 году была преобразована во Вторую советскую трудовую школу. Перебирая в 1980-х годах в Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) БССР выцветшие листы документов, страницы мемуаров, статистические отчеты, я безоговорочно утвердился во мнении, что Минская гимназия — настоящий феномен! Ведь от ее порога начали свой жизненный путь многие известнейшие личности — в причудливом хитросплетении их потрясающих судеб мелькают города, страны, континенты...
Томаш Зан (1796–1855) — оракул виленской молодежи, руководитель тайного студенческого общества филоматов, которое проповедовало свободолюбивые идеи. Друзья называли его «архилучистым». И это слово выражает, пожалуй, главную особенность его натуры. Он действительно излучал свет — как человек, гражданин, ученый. Сосланный властями в Оренбург, Зан первым прошел тот путь, по которому позже двинулись российские декабристы. Его эрудиция, широта интересов поражают: просвещение коренных жителей края, изучение быта, фольклора, природы Урала, создание Оренбургского историко-краеведческого музея, многочисленные экспедиции, рождавшие научные открытия. В числе его друзей, знакомых — люди, чьи имена занесены в анналы истории, науки, искусства, литературы.
В 11-летнем подростке с раскосыми, живыми глазами, каким пришел в гимназию Станислав Монюшко (1819–1872), вряд ли можно было угадать будущего знаменитого композитора. Своим сверстникам он казался отшельником. Но именно ему суждено было вместе с В. Дуниным-Марцинкевичем стать у истоков белорусской оперы. В 1852 году здесь же, на Высоком рынке, в здании городского театра, увидела свет рампы «Ідылiя» («Сялянка»), которая положила начало белорусскому профессиональному музыкально-театральному искусству. Да и как же иначе: ведь, по словам Дунина-Марцинкевича, этот «дудар мiж намi ўзрос, ён нам братка. Яму мiнская зямелька родненькая матка!..».
Бенедикт Дыбовский (1833–1930), чья большая, длиною почти в век, жизнь есть не что иное, как эпическое полотно! Трудно назвать дело, которым бы он не занимался, или область знания, к которой бы не тянулся его пытливый ум. Он мечтал о таком будущем, в котором «люди найдут свое высокое счастье в возможности делать счастливыми близких своих», и сам беззаветно служил этой благородной цели. Универсализм научных интересов Б. Дыбовского подобен ренессансной всеохватности: географ и зоолог, медик и антрополог, литературовед и лингвист... Через всю его жизнь прошли-прогремели восстания, революции, войны. Он был знаком с Н. Чернышевским, с видным деятелем национально-освободительного движения З. Сераковским, с генералом Парижской коммуны Я. Домбровским… За участие в восстании 1863 года приговорен к повешению, но затем сослан в Сибирь. Каторгу он превратил в научную лабораторию, стены которой раздвинулись от Иркутска до Владивостока. С гордостью приняв звание члена-корреспондента Академии наук СССР, он на склоне лет трепетно вспоминал свои «гимназические штудии в Минской губернской гимназии».
В 1870 году Минскую гимназию окончил Янка Лучина (1851–1897). Последнее десятилетие его жизни было отдано литературе. Человек европейской культуры, Лучина переводил на польский язык басни Крылова и стихи Некрасова, «Илиаду» Гомера и французские одноактные пьесы. Работая в разных литературных жанрах, Янка Лучина вместе с Франтишеком Богушевичем закладывал основы критического реализма в белорусской литературе, обогащая ее стилистику и язык. Смерть оборвала его творческие замыслы. Время разметало рукописное наследие и архив поэта. Минская земля приняла его прах: он был похоронен на Кальварийском кладбище.
Ядвигин Ш. — такой псевдоним избрал себе Антон Левицкий (1868–1922). Выпускник Минской гимназии, он за участие в студенческих выступлениях был изгнан из Московского университета и с 1897 года поселился в Карпиловке под Радошковичами. С этого времени началась его литературная деятельность, тесно связанная с Минщиной. Из-под его пера выходят повести, путевые очерки, притчи, мемуары. Максим Богданович называл его «одним из лучших баснописцев нашего времени», Янка Купала — «очень интересным и остроумным собеседником». Энциклопедии и монографии отводят Ядвигину Ш. одно из первых мест в истории белорусской художественной прозы.
Среди воспитанников Минской гимназии — один из основоположников белорусской археологии, историк, этнограф Евстафий Тышкевич; друг Тараса Шевченко по ссылке и после нее, художник и писатель Бронислав Залеский; белорусский писатель, историк, этнограф, краевед, публицист Александр Ельский; один из организаторов и руководителей восстания 1863–1864 годов, издатель и журналист Иосафат Огрызко; знаменитый юрист («король адвокатуры», как называли его современники), литературовед Владимир Спасович; польский историк Тадеуш Корзон; самобытный живописец, театральный декоратор, график Фердинанд Рущиц...
Сведя все эти сведения в многостраничное письмо, я обратился в белорусскую Академию наук и партийные газеты с предложением об установке на первом здании гимназии (ибо второе, как уже сказано выше, не уцелело) мемориальной доски с именами ее выдающихся воспитанников. Пройдя немалый путь по длинным и извилистым коридорам власти — благо в воздухе уже витало бодрящее слово «Перестройка», — мое предложение наконец-то было удовлетворено! И на здании былого монастыря и присутственных мест (площадь Свободы, 23, — теперь в этом здании чего и кого только нет: минская областная федерация профсоюзов, банк, салоны, магазины, агентства, рестораны etc.) в 1989 году появилась мемориальная доска. На ней — всего лишь дюжина блистательных имен да заключительные слова: «… и другие известные деятели». Отлитая в бронзе, доска высветила воистину золотое звено в той неразрывной цепи памяти Минска, которую ковала сама История...
Услышать историю Минской гимназии можно во время еженедельной Обзорной экскурсии по Минску https://viapol.by/assembly/5.1.htm |
27 июля 2018 г. Глядя на Троицкую церковь в Вольно, как будто струящуюся своими виртуозными формами и движущуюся навстречу зрителю, невольно вспоминаешь поэтическую строку: «Храм стройный легкою стопою в лазури пролагает путь». С этой воистину крылатой фразы Максима Богдановича, словно с эпиграфа, и хотелось бы начать беседу на обозначенную в заголовке тему. И сразу же оговорюсь: в этих кратких заметках речь пойдет не о паломнических турах — их специфические особенности заслуживают отдельного разговора. Главное же состоит в том, что паломничество (слово это этимологически связано с Палестиной, куда иcстари направлялись странствующие богомольцы — паломники, пилигримы) всегда было уделом людей «воцерковленных», подготовленных и объединенных общим стремлением посетить святые места.
Между тем традиционная архитектурно-историческая экскурсия, знакомящая с сакральными памятниками, принципиально отличается от паломнического тура как своим светским характером, приматом познавательности над религиозностью, так и куда более широким составом экскурсантов, каждый из которых волен придерживаться любых конфессиональных пристрастий или же исповедовать атеистические убеждения разного спектра.
Указанные обстоятельства ставят перед экскурсоводом ряд особых требований: скрупулезная точность в изложении фактов, деликатность в их интерпретации, личная нейтральность, если угодно — отстраненность от малейших попыток навязывать слушателям свои религиозные предпочтения, посягать на чужую свободу совести. Прискорбно и совершенно недопустимо, когда экскурсовод, беря на себя несвойственные ему функции проповедника-апологета той или иной веры, обрушивает на слушателей затасканные тирады о «святом православии» и «кознях латинян» или, напротив, о «мессианстве» католической церкви и происках Византии, «виновницы великого раскола»…
Впрочем, взаимных упреков и обид тут не счесть! Если же в эту православно-католическую антитезу тысячелетнего возраста вовлечь еще и униатов, кальвинистов, лютеран, мусульман, иудеев — таков неполный перечень представителей вероисповеданий, известных на белорусской земле с давних пор, — то совсем нетрудно вообразить себе, во что может превратиться в экскурсионном автобусе «выяснение отношений» по поводу того, кто праведнее, святее — словом, ближе Богу. Невольно вспоминается в связи с этим латинское сокращение «D.O.M.» (Deo Optimo Maximo — Богу Наилучшему Величайшему), часто помещаемое на католических храмах, склепах, могильных плитах… Утверждая себя, любая религиозная доктрина отвергает при этом претензии всех прочих доктрин на обладание истинным учением. Это как раз то правило, из коего нет абсолютно никаких исключений!
Банальности подобного рода поневоле приходится напоминать сегодня, ибо стоило маятнику Истории размашисто качнуться слева направо — и богоборчество, еще совсем недавно безраздельно господствовавшее на необозримых советских просторах, тотчас сменилось всеобщим «духовным прозрением» — вне всякого сомнения, столь же всеобщим, сколь и иллюзорным. Вместе с тем эта стремительная мировоззренческая трансформация, броско названная некоторыми исследователями и публицистами «религиозным ренессансом», не могла не породить в головах и душах неофитов от веры тот невероятный сумбур, о котором приходится лишь сожалеть.
Не будем при этом, однако, забывать, что архитектурные монументы, подобно людям, кардинально меняли веру, а с нею — и внешность. Так, Сынковичская церковь Св. Михаила за долгую историю послужила и православным, и униатам, и католикам, и атеистам. Являясь в своей пластике продуктом синтеза культур Запада и Востока, она одновременно и своеобразный символ религиозного синтеза, без которого немыслимо представить себе судьбу белорусского народа. После Брестской церковной унии (1596) православная святыня перешла к униатам, а с упразднением униатства (1839) вернулась в православие. По окончании Первой мировой войны в ее стенах попеременно проводились католические и православные богослужения, а в 1926 году церковь вновь стала униатской. Здесь находился один из самых активных греко-католических приходов, опекаемых миссией иезуитов восточного обряда в Альбертине — пригороде Слонима. Под сводами древнего храма обращенное к Богу слово вновь зазвучало по-белорусски. Но ненадолго. После Второй мировой войны церковь закрыли, превратив ее в склад и овощехранилище. Лишь в 1993 году здание обрело статус действующей православной церкви.
Мужской бернардинский монастырь в Слониме. Его костел, ныне православная церковь Св. Троицы, одно из старейших каменных сооружений в городе, доносит до нас суровое дыхание ХVІІ столетия — пожалуй, самого трагического в нашей истории. С возведения этой святыни началось формирование исторического ядра города, в котором за 80 лет, в ХVІІ—ХVІІІ веках, появились один за другим семь католических монастырей! Бернардинцы, бернардинки, каноники латеранские, францисканки, бенедиктинки, доминиканцы, иезуиты своими монументальными сооружениями, по сути, возвели мощный оборонительный пояс города, предопределив тем самым его неповторимую живописную планировку.
Преимущественно католический Слоним дал приют униатам и мусульманам. Здесь же сохранилась до наших дней крупнейшая и древнейшая в Беларуси каменная синагога — своеобразный по облику памятник барокко. А на месте снесенного в 1960-х годах Спасо-Преображенского собора, который размещался в костеле Божиего Тела монастыря каноников латеранских, сейчас действует православная святыня под тем же именем и с сохранением прежних архитектурных форм — правда, излишне утрированных при восстановлении храма.
Наконец, Жировичский монастырь, половина истории которого принадлежит его униатскому прошлому. И какому прошлому! «Новой Ченстоховой» именовали обитель в Речи Посполитой. Каменные постройки той поры смотрят на нас доныне, как и коронованный Римом в 1730 году образ Богоматери Жировицкой. Равно почитаемый православными, униатами и католиками, этот образ воспринимается в наши дни как настойчивый, идущий через века нестроений Церкви Христовой призыв к единению верующих, разделенных конфессиональными перегородками. И подобных примеров не счесть!
Даже этого беглого перечисления памятников из так называемого «Слонимского куста» вполне достаточно, чтобы сделать однозначный вывод: при показе сооружений сакрального зодчества, к какой бы конфессии они ни относились, задача экскурсовода — быть просвещенным комментатором, анализирующим культовый памятник, как и всякий другой памятник архитектуры, и излагающим события, связанные с этим памятником, в строгом соответствии с исторической правдой, а не с собственными религиозными предпочтениями.
Изначально неверна установка на экскурсию (не паломничество!) как на поездку с целью некоего «поклонения» святыне. Применительно к массовой аудитории это неизбежно ведет к профанации любых благих намерений, к нежданно-негаданно карикатурному результату. Несомненно, досадные издержки скоропалительного и ангажированного религиозного просвещения с годами уйдут. Но дабы это случилось, и как можно скорее, экскурсовод должен осознавать всю меру собственной ответственности в этом процессе. От его профессионального мастерства и такта зависит, без всякого преувеличения, очень многое!
Познакомиться с сакральной архитектурой Беларуси приглашаем в наших сборных экскурсиях https://viapol.by/belarus.htm. А если у Вас своя группа (сотрудники предприятия) — то смотрите весь список здесь https://viapol.by/corporate_belarus.htm |
21 июня 2018 г. На камне мшистом в час ночной,
Из милой родины изгнанник,
Сидел князь Курбский, вождь младой,
В Литве враждебной грустный странник.
Таким — страждущим и одиноким — изобразил князя Андрея Михайловича Курбского в своих «Думах» (1821) Кондратий Рылеев. Что в этих словах правда, а что — патриотическая «ложь во спасение»? Об этом и поговорим. А вот «камень мшистый», на котором сидел 36-летний «вождь младой» (он же — «надежда скорбных россиян»; он же — «гроза ливонцев, бич Казани»), вполне мог бы быть тем камнем среди многих прочих камней, что и сегодня в избытке лежат вокруг Кревского замка, в чьих замшелых стенах бывал сей вождь…
Со временем фигура его прочно заняла место, если угодно, «отца-основателя» русской политической эмиграции. И даже не столько из-за самого факта его побега (ведь и до Курбского, и после него было немало желающих бежать из Московского государства к соседям в поисках спасения от преследований и смерти), сколько в силу множества самых разных исторических обстоятельств.
Возвышение Андрея Курбского, принадлежавшего к древнему роду Рюриковичей, было плодом его собственных усилий и во многом связано с именем Ивана (Иоанна) IV Васильевича (Грозного), успевшего в свои неполные 17 лет провозгласить себя первым «царем всея Руси». Андрей Курбский в написанной им в эмиграции «Истории князя великого Московского», пожалуй, первым из историографов российского трона прибег к следующей нелицеприятной оценке правителей России: в ранние годы они прислушиваются к мудрым советникам и тем работают во благо государства, а после отворачиваются от них, предаются самовластию и тем погружают страну либо в пучину террора, либо в мрачный тупик.
В начале царствования Ивана Грозного Курбский «жребиями судьбы» попал в узкий круг ближайших советников московского правителя, занятых программой государственных преобразований, — «Избранную Раду» — и оказался близок к одному из ведущих членов Рады, окольничему Алексею Адашеву, фавориту московского царя. У Избранной Рады в ту счастливую для нее пору было немало успехов: от легендарно известного взятия Казани до проведения сложных правовых реформ и создания местного самоуправления. Курбский отличился тогда и как дельный советник, и как талантливый полководец, командовавший полками во время взятия Казани и отражения набегов крымского хана, что, безусловно, подогревало честолюбие молодого князя и дурманило ему голову…
Однако влияние Избранной Рады сильно пошатнулось после тяжелой болезни царя, когда тот, предчувствуя кончину, просил свое окружение присягнуть его малолетнему сыну Дмитрию. Уверенные в том, что царь на краю могилы, советники «мудро» посчитали невыгодным для себя признание Дмитрия властным наследником. Эти политические игры и хитроумные расчеты у ложа умирающего монарха привели позже к непоправимым последствиям, когда царь Иван… чудом выздоровел. Хорошо запомнив нежелание тех, кого он искренне считал верными советниками, отдать престол его сыну, Иван стал впоследствии жестоко мстить им…
В 1558 году он ввязался (на четверть века!) в Ливонскую войну — окрепшее Московское государство вторглось на уже входившие в орбиту западной Европы земли, раздумывая об организации прямой морской торговли на берегах Балтики. В это же время Москва предлагает своему многовековому сопернику — Великому Княжеству Литовскому — отправиться в совместный поход на Крымское ханство и покончить с их общим врагом. На стол переговоров была лихо брошена, казалось бы, беспроигрышная карта: царь Иван готов был навсегда отказаться от претензий на земли бывшей империи Рюриковичей в составе ВКЛ в обмен на отказ Литвы от поддержки Ливонии в начатой им войне. Но не тут-то было! В Вильне и Кракове прекрасно понимали: после разгрома крымского хана Девлета I следующей вожделенной жертвой царя станет само ВКЛ. Вот почему, вопреки Москве, Вильня поддержала Ливонию и вступила в союз с крымским ханом. Это превратило Ливонскую войну из легкой прогулки, каковой она виделась из башен Кремля, в долгое и изнурительное противостояние с колоссальными материальными потерями и огромной гибелью населения с обеих сторон.
В круговороте этих событий оказался и Курбский. В эти годы он еще является активным участником Ливонской войны, хотя, проявляя себя с переменным успехом, уже лишается прежней близости к царю и оказывается почти в ссылке в Юрьеве Ливонском (нынешний город Тарту в Эстонии), откуда в ночь на 30 апреля 1564 года со своей свитой переходит на литовскую сторону. И хотя конкретные причины этого побега до сих пор остаются загадкой, но принятое им решение отнюдь не было неким эмоционально-безрассудным шагом в неизвестность, ибо у беглеца при переходе границы уже были «пригласительные» письма от влиятельнейших особ: короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа, гетмана Николая Радзивилла Рыжего, подскарбия Остафия Воловича…
Буквально в первые же дни после побега Курбский отправил Грозному пылающее гневом послание, в котором обвинил царя в тиранстве, пагубном самовластии, а также жаловался на несправедливые личные притеснения и отсутствие у властителя внимания к своим лучшим слугам. Столь глубоко личное и донельзя уничижительное по своей сути обращение к монарху было совершенно неслыханным, абсолютно беспрецедентным для российской истории! Но куда более беспримерным было то, что Грозный посчитал нужным всего через три месяца (!) ответить на письмо Курбского своим жестким по стилю посланием: безоговорочно настаивая в нем на священном праве самодержца казнить и миловать, он нимало не скупился на ядовитые обвинения по адресу своего противника.
В чужой державе Курбский, став военачальником, участвовал в походах против московских войск и татар — применял свою саблю там, где это было нужно новому отечеству. Сигизмунд II Август истинно по-королевски принял беглеца и наделил его богатыми имениями. В их числе были Кревское староство (не какой-нибудь, но родовой удел Гедиминовичей-Ягеллонов с древним родовым замком!), земли северо-восточнее Ковны (Каунаса), наконец, обширные владения вместе с городом Ковелем на Волыни, вошедшей в состав Королевства Польского после Люблинской унии (1569). Все это соответствовало статусу весьма знатного человека, но не превращало Андрея Курбского в магната Речи Посполитой.
Вместе с тем стоит отметить, что жизнь князя на Волыни была переполнена постоянными конфликтами с соседями — склоки нередко переходили во вторжения на территорию чужих владений с отрядами верных слуг для потрав и уничтожения имущества. Он отбирал имения и сажал их владельцев в темницы, выбивал долги из местных евреев, прибегая к изощренным пыткам, — словом, вел себя как разбойник и деспот провинциального масштаба. К тому же крайне неудачный брак Курбского с Марией Гольшанской и последовавший за этим браком громкий, разорительный бракоразводный процесс в итоге заслужили пылкому эмигранту и стойкому борцу за высокие и гуманные идеалы репутацию самодура и скандалиста...
При всем том, однако, Андрей Михайлович с головой окунулся в многотрудное дело по укреплению позиций православия в Речи Посполитой и отдавал этому немало своих душевных сил. Он добился весьма значительных успехов на литературном поприще, оставив потомкам богатейшее письменное наследие: послания, переводы, полемические произведения и т.д. Какова бы ни была оценка этого наследия — а вокруг него скрещивали критические копья целые поколения беллетристов, историков, литературоведов, — одно несомненно: сочинения Андрея Курбского — крупное событие в интеллектуальной жизни Европы ХVІ века — века Ренессанса и Реформации.
Андрей Курбский прожил в новом отечестве почти 20 лет, скончавшись в возрасте 55 лет в мае 1583 года — именно тогда, когда по воле провидения наконец-то завершилась Ливонская война, участником которой он был! Через десять месяцев, 28 марта 1584 года, сойдет в могилу его непримиримый оппонент и язвительный корреспондент в одном лице — царь Иван Грозный. На его преемнике, сыне Федоре I Иоанновиче, «постнике и молчальнике, более для кельи, нежели для власти державной, рожденном», пресечется династия Рюриковичей на московском троне. Затем последует Смутное время, но это, как говорится в таких случаях, уже совсем другая история…
Так все-таки прав ли был К. Рылеев, рисуя упомянутый в начале этих заметок словесный портрет «из милой родины изгнанника»? Ведь «Литва враждебная», как это ни удивительно могло бы показаться поэту-декабристу, дала сему «грустному страннику» и более чем достойный приют, и блестящие возможности для свободного творчества, благодаря чему он остался и в истории, и в литературе, тогда как его ближайшего соратника и единомышленника — Алексея Асташева на «милой родине» ждала преждевременная смерть и уничтожение всего его рода от рук окружения царя-тирана. И это, увы, лишь одна из многих и многих десятков тысяч жертв необузданного московского правителя, чьи пороки страстно обличал Андрей Курбский — «первый русский диссидент».
Услышать эту историю можно в экскурсиях с посещением Крево: "Там бьет крылом История сама", маршрут СБ-1.25: Ивье — Суботники — Жемыславль — Трабы — Гольшаны — Боруны — Крево https://viapol.by/assembly/1.25.htm | |